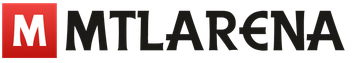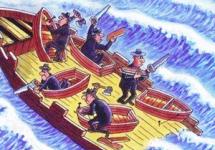Нужно признать, довольно много. Возникли мощные церковные учебно-просветительские центры вроде Тихоновского университета, готовящие мирян к катехизаторской работе. К преподаванию в этих центрах привлечены опять же высокообразованные миряне. Появилась целая плеяда замечательных церковных публицистов, аналитиков, ученых, сектоведов, историков, не носящих духовного сана, но имеющих глубокие знания и желание служить Церкви. Усилиями активных мирян зазвучало православное радио, появилось словосочетание «православное кино» (пусть и спорное для некоторых). Много было сделано, всего и не перечислишь. Если говорить о сегодняшнем дне, есть причины думать, что со временем участие мирян в церковном социальном служении, апологетике, катехизации будет возрастать. Например, назначение А.Щипкова и В.Легойды на важнейшие церковные должности показывает позитивное отношение Святейшего Патриарха Кирилла к допущению мирян к церковной просветительской работе высочайшего уровня.
Чрезвычайно интересен вопрос формы современного церковного служения мирян. Эта тема весьма живая и творческая. Ведь в истории Церкви было множество служений, которых уже нет сейчас, и не было послушаний, которые уже есть сегодня. Например, апостол Павел в Послании к римлянам перечисляет духовные дары, которые лежали в основе тех или иных древних церковных служений: как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, - в учении; увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием (Рим.12,6-8). На сегодняшний день у нас нет приходских пророков. Нет и увещевателей – нам даже не очень понятно, что это было за служение; очевидно, особая форма духовнической работы, которую вел специально поставленный мирянин (может быть, нечто вроде приходского психолога). Или раздаватель и благотворитель – неясно, какая между этими служениями была разница, чем конкретно занимались эти люди. И в то же время, в древней Церкви не было руководителей синодальных отделов и их первых заместителей, не было официальных спикеров, патриарших пресс-секретарей и проч. Тогда они были просто не нужны, но сегодня без них уже не обойтись. Отмирают старые формы, приходят новые.
Меня занимает одно церковное служение, существовавшее до конца третьего века, потом отставленное, потом даже запрещенное, но все таки окончательно из Церкви не исчезнувшее, и в последние три века все более и более возвращающееся. Это проповедь мирянина на богослужении. Вспомним, как реализовалось данное служение в церковной истории.
Первая Церковь, состоящая в основном из евреев, в своем богослужении многое имела из богослужения синагогального. В частности, была заимствована возможность каждого взрослого члена общины проповедовать во время службы. В древнехристианском памятнике "Апостольские постановления" эта особенность христианских евхаристических собраний отражена в следующем повелении: "Учитель, хотя бы и из народа, если он искусен в слове Божием и чист по поведению, пусть учит; ибо "все будут научены Богом" (кн.8,32). Право на богослужебную проповедь мы можем найти и в известных словах апостола Петра о всеобщем «царственном священстве» христиан: вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет (1Пет.2,9). Не зря упоминается «возвещение» - все христианине-мужчины имеют право говорить о Христе Воскресшем на своих собраниях. Так и было в первые века христианства – миряне благовествовали и во время христианских служений, и вне их. Однако, с середины третьего века ситуация меняется.
На церковное отношение к этому вопросу явно повлияла история скандального рукоположения Оригена. "Во время погромов Каракаллы в 216 году Ориген вынужден был покинуть Александрию и некоторое время провести в Палестине. Тамошние епископы обратились к нему, в то время еще мирянину, с просьбой прочесть проповеди их пастве... По понятной человеческой слабости “папа” Деметрий, глава Александрийской церкви, проникся завистью к Оригену и стал писать о нем пасквили в другие епархии, осуждая его, в частности, за то, что он, будучи мирянином, позволил себе проповедовать в присутствии епископов. По мнению Деметрия, подобная дерзость была в церковной практике чем-то неслыханным. В Палестине, очевидно, главы поместных церквей придерживались иного мнения" (Диакон Павел Гаврилюк. История катехизации в древней церкви, ч.3).
Известно, впоследствии Ориген был рукоположен его друзьями-епископами именно для получения права беспрепятственно проповедовать на богослужении. Но тут для нас интересно другое. Начиная с этого времени, церковный взгляд на проповедь мирян с амвона начинает меняться в негативную сторону. Свидетельств о богослужебной проповеди мирян в ближайшие после Оригена столетия мы не имеем.
"После... случая с Оригеном учительство мирянина в церкви исключается из практики. Таким образом, в III веке древнее обыкновение допускать до проповедования слова Божия всех способных без различия - иерархическое ли то лицо или нет - приходит в забвение, устраняется... Клир, стремясь отчуждить себя от прочего общества и создать из себя корпорацию с высшими преимуществами, присваивает исключительное право учительства в церковных собраниях. Это было в III веке новостью, которой не знали ни век апостольский, не эпоха послеапостольская... Правда, миряне и после этого могли быть учителями в катехизаторских школах, а также миссионерами, но это далеко не то, что право раскрывать смысл христианской религии с церковной кафедры" (А.П.Лебедев. Духовенство древней вселенской Церкви. Отдел 3).
Окончательную точку в этом деле ставит Трулльский собор VII века. "Не следует мирянину, - говорится в 64-м правиле этого собора, - держать речь или учить всенародно и таким образом брать на себя учительное достоинство, но (следует) повиноваться преданному от Господа чину, отверзать слух по отношению к приявшим благодать учительского слова и от них поучаться божественному".
Что же, здесь и конец? Нет. В церковной практике всегда действовали принципы акривии и икономии. Любое правило порождает исключение из правила. Впоследствии в Церкви довольно часто были случаи, когда по благословению правящего архиерея образованным мирянам дозволялось произносить проповедь с амвона. В Церкви Русской такие случаи настолько распространены, что есть смысл говорить об определенной традиции. Причем, традиция связана со славными именами. Например, некогда митрополит Московский поручил юноше-студенту Левшину объяснение катехизиса на литургии. Сегодня упомянутый юноша известен нам как митрополит Московский Платон Левшин. Та же история имела место в жизни студента Дроздова (впоследствии святитель Филарет Московский). В духовных училищах Русской Церкви издавна был обычай поручать ученикам старших классов, уже посвящённым в стихарь, проповедовать в академических и семинарских церквах. А в конце 20го века, в Москве, мы даже видим академика С. Аверинцева, также облаченного в стихарь и благовествующего в храме.
В Киеве, в синодальную эпоху, существовала неизменная традиция проповедей профессоров-мирян Киевской академии на великопостных "пассиях". Так, в первой трети 19 века в киевских храмах блестяще проповедовал Яков Космич Амфитеатров, магистр КДА, преподаватель русской словесности и гомилетики (племянник свт.Филарета Киевского). В современном Киеве, несмотря на известные печальные события, продолжают благовествовать проповедники храмов прп.Агапита Печерского и свт.Луки Крымского, воспитанные в школе проповедников прот.Андрея Ткачева. Об этой школе (по-другому: клуб проповедников) стоит сказать несколько слов.
Цель клуба, основанного о.Андреем, состоит в подготовке мирян именно к церковной проповеди. Методика занятий клуба была подробно изложена в книге о.Андрея "Проповедь о проповеди". Мужчина, желающий научиться говорить в храме, приносит в клуб наброски проповеди на вольную тему. Текст обсуждается настоятелем храма и участниками клуба. Если нужно, вносятся коррективы. В следующий раз активист приносит улучшенный вариант, который снова подвергается разбору. Когда проповедь уже не вызывает возражений, она произносится наизусть. Если человек нормально излагает текст и не стесняется аудитории, настоятель благословляет его одеть стихарь и произнести слово в условленный день, на богослужении. Лучше сделать это на буднях, когда в храме не очень много людей. Проповедь снимается на камеру и потом вновь обсуждается.
За несколько лет существования клуба были отлично подготовлены для проповеди пономари, многие из которых уже стали священниками. И сейчас клуб работает, получил архиерейское благословение и перенесен в Киево-Печерскую Лавру. Методика дает свои плоды.
Однажды архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий во время своего доклада на XVIII Рождественских чтениях сказал замечательные слова, очень идущие к нашему разговору: "Катехизация сегодня должна стать делом всей Церкви". Может быть, если мы посмотрим на поднятую сегодня тему в контексте этих слов, то сделаем шаг к постепенному возвращению к апостольским и святоотеческим формам катехизации.
Предисловие
Одной из наиболее актуальных тем современной западной богословской мысли, особенно католической, является учение о мирянах. Православное богословие уделяет очень мало внимания этой теме.
Школьное православное догматическое богословие, когда оно говорит о мирянах, почти исключительно ограничивается указанием на их обязанности, игнорируя совсем их участие в жизни Церкви. Но то, что не было сделано школьным богословием, восполнено было практикой церковной жизни, особенно последнего времени. Мирянам было отведено довольно большое место в жизни Церкви и больше всего в церковном управлении. В силу этого неизбежно возник разрыв между церковной практикой и богословским учением. Церковная практика оказалась без богословского обоснования, и богословское учение не соответствует церковной практике. Не пришло ли время рассмотреть вопрос о мирянах, исходя из православного учения о Церкви, а не из потребностей современной церковной жизни? Эклезиологическое учение о мирянах позволило бы установить норму деятельности мирян, которая содержится в Церкви.
Заглавие моей работы «Служение мирян в Церкви» показывает, что я не ставлю себе задачу дать полное учение о деятельности мирян, а только учение об их служении в Церкви, т. е. в области священнодействия, церковного управления и церковного учительства. Поэтому из моего горизонта выпадают разнообразные формы деятельности мирян, которые стоят в тесной связи с их жизнью в Церкви, но в прямом смысле не могут быть отнесены к служению в самой Церкви, как например, их участие в религиозном воспитании и в социальной работе в самом широком смысле. Кроме того, я оставляю без рассмотрения вопрос о деятельности мирян в миру. Я делаю это вполне сознательно не только потому, что размеры моей работы не позволяют мне рассмотреть все вопросы, касающиеся учения о мирянах, но и потому, что я хочу поставить в центре этого учения служение мирян в Церкви, т. к. существует определенная тенденция направить активность мирян в сторону вне-церковной или прицерковной деятельности за счет их служения в Церкви.
Моя задача заключается в том, чтобы выяснить норму служения мирян в Церкви, а не дать практические указания, как устранить недостатки современной формы деятельности мирян. Мне приходилось уже указывать, что основной недостаток нашей церковной жизни лежит не столько в ее структуре, сколько в том духе, который мы вносим в нее. Если мы осознаем норму служения мирян в Церкви, мы ее легко сможем приспособить к структуре нашей церковной жизни. В свою очередь это приспособление само по себе устранит главные ее недостатки.
Я хочу добавить еще одно замечание. В заглавии моей работы я употребил термин «миряне», как наиболее привычный. В тексте я различаю его от термина «лайки», менее привычного для русского языка. Он происходит от греческого слова «лаикос», которое означает того, кто принадлежит к народу Божьему. Он лучше передает подлинное содержание понятия члена Церкви, которое в ней имелось с самого начала, тогда как термин «миряне» соответствует тому учению о членах Церкви, которое сложилось в школьном богословии под влиянием идеи посвящения. В некоторых случаях, чтобы избежать частого употребления непривычного термина «лайки», я пользуюсь новозаветным термином «верные».
Введение
Царственное священство
1. Прямые свидетельства Писания о священническом служении членов церкви немногочисленны, но настолько определенны, что не требуют особых толкований. В своем послании ап. Петр обращается ко всем христианам: «И сами, как живые камни, устрояйте (οίκοδομείσθε) 1 из себя дом духовный, священство святое (ειs ϊεράτευμα άγιον), чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу, Иисусом Христом… Вы род избранный, царственное священство (βασίλαον ίεράτευμα), народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда непомилованные, ныне помилованные» (1 Пет. 2, 5, 9, 10). В Апокалипсисе мы читаем: «Соделавшему нас царями и священниками (βασιλείs και iepeis·) 2 Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков» (1, 6); «И соделал нас царями и священниками (βασιλείs και iepeis) Богу нашему; и мы будем царствовать на земле» (5, 10) 3 ; и «они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с Ним тысячу лет» (20, 6).
Иудеи были избранным народом Божьим: «Ты народ святой у Господа Бога Твоего, и Тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на Земле» (Втор. 14, 2). Этот избранный ветхозаветный народ Бог образовал для себя: «Полевые звери прославят Меня, шакалы и страусы, потому что Я в пустынях дам воду, реки в сухой степи, чтобы поить избранный народ Мой. Этот народ Я образовал для Себя; он будет возвещать славу Мою» (Исайя, 43, 20-21). Бог дал обещание народу Своему: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете уделом Моим из всех народов: ибо Моя вся земля. А вы будете у меня царством священников (в LXX „βασίλειον ίεράτευμα“) и народом святым» (Исх. 19, 5-6). В Новом Завете таким родом и народом (εvos εκ εκτόν, ενοζ αγιον), избранным и образованным Господом для Себя, стали христиане, которые раньше вообще не были народом, а в Церкви соделались народом Божьим - λαόs Θεου. Перед лицом древнего мира в послании в Рим ап. Павел повторил древнее пророчество: «Не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную -возлюбленной» (Рим. 9, 25; Осия, 2, 23). Церковь есть народ Божий, и каждый верный в ней принадлежит к этому народу, какое бы место он в ней ни занимал и какое бы служение он в ней ни исполнял. Быть членом народа Божьего означает иметь высшее звание на земле, т. к. нет ничего высшего, как принадлежать к народу, который сам Бог избрал «во Христе» и поставил служить Ему. Этнический принцип, по которому был избран ветхий Израиль, заменен принципом принадлежности к Церкви, в которой этот этнический принцип оказался превзойденным: «Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского: ибо вы одно („eis“ - один) во Христе Иисусе» (Гал. 3, 28). «Дары и призвание Божье непреложно» (Рим. 11, 29), и потому нельзя быть в Церкви и не быть членом народа Божьего, «λαϊκόs» - лаиком 4 . Каждый, кто в Церкви, - лаик, а все вместе - народ Божий (λαόs Θεοΰ), и каждый призван, как священник Бога, приносить Ему Иисусом Христом духовные жертвы.
В иудействе было особое священство, закрытое и недоступное для народа, была грань, которая раз и навсегда отделила священство от народа, было покрывало, которое закрывало от народа святыню. Царственное священство всего Израиля в Ветхом Завете оставалось обетованием. В настоящем оно было поглощено левитским священством, которому оставался чужд весь народ Израиля. Смешение настоящего и будущего в этом служении было тягчайшим преступлением. «Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фа-лева, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им: «полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь. Почему вы ставите себя выше народа Господня?.. И разверзла земля уста свои и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество. И сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества… И вышел огонь от Господа, и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение» (Чис. 16, 1-35). На Моисея восстали во имя того, что сказал Господь Моисею: все принадлежат народу Божьему, среди всех Господь, все одинаково являются членами народа и никто не может поставить себя выше народа Божьего, а потому все святы и все священники (Исх. 19, 5-6). Земля разверзлась, и огонь пожрал восставших на Моисея, но обетование осталось непреложным. Оно исполнилось в Церкви. Покрывало снято со святыни - «и вот завеса во храме раздралась на двое, сверху до низу» (Мф. 27, 51), грань превзойдена, пропасть заполнена и весь народ, новозаветный Израиль, введен в святилище «посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл всем через завесу, т.е. плоть Свою» (Евр. 10, 19-20). Через это вхождение в «храм тела Христа» (Ин. 2, 21) новозаветный народ стал царственным священством (βασίλειον ίεράτευμα) 5 . Царственное священство стало реальностью и основой жизни Церкви. В Ветхом Завете служение во храме было доступно одному левитскому священству, а в Новом Завете служение в Церкви, как в живой и нерукотво-ренной Скинии, распространяется на всех членов Церкви. Новозаветный народ составлен из царей и священников; он весь свят, и в его собрании Господь, а потому он не поглощается землею и не истребляется огнем. Весь новозаветный народ служит Богу не в ограде храма, а в самом святилище, в котором он весь находится. «Вы приступили к горе Сиону, ко граду Бога живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу и к духам праведных, достигших совершенства, и к Ходатаю Нового Завета, Иисусу» (Евр. 12, 22-24). Новозаветному Израилю открыт доступ в святилище, куда ветхозаветный народ не мог приступать, а куда приступал только первосвященник и священники 6 .
Ветхозаветное священство было поставлено на служение в храме как целый отдельный род. В Новом Завете священство принадлежит всей Церкви. Христиане призываются к служению в ней каждый в отдельности, ибо никто не может приступить к крещению не будучи призван самим Богом. «Все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или еллины, рабы или свободные; и все напоены одним Духом» (1 Кор. 12, 13). Каждый член Церкви призван Богом, Им поставлен как член Церкви через сообщение дара Духа. Следовательно, каждый член Церкви призван к жизни, к действованию, к деланию, к служению в Церкви, так как Дух есть принцип жизни и активности в Церкви 7 . «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит (2 Кор. 3, 6). Каждый поставляется для служения царственного священства, но служат, как священники Бога и Отца, все вместе. Ветхозаветное священство стало общим служением, левитское - лаическим, так как Церковь есть народ Божий.
2. Первохристианство было лаическим движением. Происходя из рода царя Давида, Христос не принадлежал Левиину колену 8 . Апостолы не имели никакого особого отношения к Иерусалимскому храму, так как и они не принадлежали левитскому священству. Не имели служения в храме и первые христиане. Если позднее в их числе были священники (Деян. 6,7)», то их участие в жизни Иерусалимской церкви не могло изменить лаического характера первохристианства. Мы знаем, что в синагогальной жизни участвовали священники, но они не имели в ней руководящего значения, не исполняя в ней своих основных священнических функций. Для иудейского сознания священство было
тесным образом связано с храмом и без храма оно не могло существовать, а потому с разрушением храма прекратилось. Если учение о царственном священстве христиан возникло, то и оно должно было быть связано с храмом. Где есть священство, там есть и храм, и обратно, где есть храм, там должно быть и священство. Этим храмом не мог быть иерусалимский храм, пока он стоял, во всяком случае для христиан из язычников, а тем более он не мог им быть, когда он был разрушен. Когда автор послания к Евреям развивал свое учение о первосвященническом служении Христа, то он строил его не по образу левитского первосвященства, а по «чину Мелхиседека» (5, 10), священника Бога всевышнего, без отца, без матери и без родословия (7, 1-3). И святилище, и скиния, в которую вошел Христос, были созданы не человеком, а Господом (8, 2). Вместо рукотворенного храма христиане имеют нерукотворенный, вместо кровавых жертв - духовные жертвы. Церковь есть «духовный дом - οίκοs πνευματικόs», т.е. храм, живыми камнями которого становятся через крещение христиане (1 Пет. 2, 5; Евр. 3, 6). Будучи живыми камнями духовного храма, они причастны к первосвященству Христа. «Имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он открыл нам через завесу, т.е. плоть Свою, и имея великого Священника над домом Божьим, да приступим с искренним сердцем…» (Евр. 10, 19-20) 10 . Поэтому все верующие, а не часть, как это было в рукотворенном храме, составляют священство в «духовном доме», так как входить в святилище могут только священники. В «духовном доме» не может быть кровавых жертв, так как Христос принес жертву единожды, раз навсегда, εφάπαξ. В нем приносятся «духовные жертвы - πνευματικοί Ουσίαι «11 его священниками. Нет никаких сомнений, что «духовные жертвы», которые приносятся через Иисуса Христа (1 Пет. 2, 5) означают Евхаристию, о которой ап. Петр уже говорил в предыдущих стихах 12 . Установленная на Тайной Вечери Евхаристия актуализировалась на Пятидесятницу. Она совершается Духом, а потому сама является духовной (πνευματική). Вводя понятие «духовной жертвы», aп. Петр желал показать, что «святое священство» является действительным священством, так как для читателей его послания священство не могло существовать без жертв. Но ударение стоит не на жертве как таковой, а на том, что она «духовная», соответствующая «духовному дому» христиан 13 . Учение ап. Петра о Церкви, как «духовном доме», есть только иное выражение учения ап. Павла о Церкви как теле Христовом. И одно, и другое упирается в первоначальную традицию, восходящую к самому Христу: «Он говорил о храме тела своего» (Ин. 2, 21). Учение о царственном священстве членов Церкви вытекает из учения о Церкви в двух его аспектах, как народе Божьем и как теле Христа 14 .
Публикуем доклад прот. Аркадия Шатова, председателя Синодального отдела по благотворительности и социальному служению «Социальное служение как основная форма участия мирян в жизни Церкви». Доклад был сделан 14 апреля 2010 года на заседании рабочей группы комиссии Межсоборного присутствия по вопросам организации церковной социальной деятельности и благотворительности.
Миряне как члены церковного организма
Сердцевиной жизни каждого христианина является служение Богу и ближним. Формы и способы такого служения могут быть различны, как различны призвания и дарования людей. Они дополняют друг друга, как члены живого организма. В этом Церковном организме все связаны единой любовью и все служат друг другу и Христу. И как в организме нет ненужных, лишних членов, так и в Церкви не может быть членов ненужных, бездеятельных. Тем более, когда речь идет о самой большой части Церкви – мирянах, народе Божием. И если для священника центр его служения Богу и ближнему – это совершение богослужения, таинств, окормление паствы; если для монаха заповедь о любви к ближнему заключается в молитве за весь мир; то для людей, живущих в миру, как пишет Паисий Святогорец, главное церковное служение – это дела милосердия.
Конечно, дела милосердия – это наше общее дело, как и Евхаристия, как молитва за других. Социальное служение мирян будет возможно только в том случае, если они живут церковной жизнью, являются участниками совершения Евхаристии – словом, осознают себя «царственным священством». К сожалению, многие из тех, кто пришел в Церковь после 70-летних гонений, не успели стать полноценными ее членами: они не понимают смысла церковных таинств, не считают себя участниками богослужений – а лишь «созерцателями»; не знают о том, что могут принимать участие в церковных соборах и т.д. Поэтому сейчас дело священников – помочь мирянам стать полноценными членами Церкви и объяснить им их высокую миссию, сердцевиной которой являются дела милосердия.
Социальная деятельность как служение Христу
Социальная деятельность никогда не была для Церкви самоцелью. Наша цель – не устроить земной рай, накормив всех голодных и одев всех нищих. Эта деятельность – выражение сострадания и любви к ближнему. Спаситель прямо сказал, что помогая нищим, больным, заключенным, мы тем самым служим Ему. И мы не можем сузить круг ближних до нашей семьи и друзей, потому что Господь показал нам, кто есть наши ближние и как мы должны им служить, на примере милосердного самарянина. Милосердный самарянин оставил свои дела и взял на себя попечение о совершенно чужом ему человеке-иноверце, потратив на это силы и все имеющиеся у него деньги, обещая помогать и дальше. Так и наше служение должно распространяться на всех нуждающихся в помощи.
Даже в Израиле времен Ветхого Завета люди должны были платить не только десятину на храм, но и пожертвования на помощь нуждающимся. С пришествием Христа помощь нуждающимся обрела новый, высший смысл и стала долгом каждого верующего. Поэтому нам нечем оправдать наше бездействие. Конечно, многодетная мать не сможет уделять такому служению много времени, у старого и больного человека может не быть на это сил. Но все-таки участвовать в таком служении любви должны все — каждый в свою меру.
Мы не можем оправдать наше бездействие и тем, что заботу о социальных нуждах наших граждан взяло на себя государство. Всем нам очевидно, что государство с этими проблемами само справиться не может – и не должно. Для этого нужна помощь общества и Церкви.
Категории мирян — участников церковной социальной деятельности
В зависимости от обстоятельств, профессии, места работы и проч., верующие могут участвовать в социальной деятельности в разном объеме и качестве:
1) Профессионально, в максимальном объеме, в качестве штатных сотрудников — сотрудники церковных социальных учреждений (детских домов, богаделен, благотворительных столовых и т.д.), а также соцработники на приходах – институт, создание которого было недавно благословлено Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
2) В свободное время и бесплатно работают добровольцы – люди, имеющие свою работу, но помогающие столько, сколько они могут, и там, где сами чувствуют потребность: кто-то хочет помогать бездомным, другие — детям в детских домах, третьи – в больницах.
3) Верующие сотрудники государственных социальных учреждений, даже если они не воцерковлены. Они являются нашими соработниками, и мы должны помочь им наполнить духовным смыслом их деятельность. Они заняты в сфере, трудиться в которой очень сложно, а без веры в Бога и знаний духовных основ милосердия порой и невыносимо (откуда синдром выгорания и другие последствия). Поэтому нельзя их обличать и критиковать, им нужно помочь.
4) Дети воскресных школ. Они с детства должны воспитываться в понимании важности служения ближним. Поэтому с ними можно и нужно заниматься не только изучением основ веры, но и социальной деятельностью: поздравлять больных на Пасху и Рождество, устраивать кружки юных сестер милосердия и т.д.
Различные формы социального служения мирян.
Разным категориям мирян соответствуют разные формы их участия в служении милосердия. Такими формами могут быть:
1) Работа в церковных социальных учреждениях;
2) Общины сестер милосердия;
3) Сообщества добровольцев;
4) Молодежные сообщества социальной направленности;
5) Пожертвования мирян на социальные нужды. Мирян нужно призывать к тому, чтобы они участвовали в социальной деятельности не только делами, но и своими ресурсами. Во время кризиса, длительность которого нам неизвестна, наш девиз может быть только таким: не «много от немногих», а «немного – от многих». Каждый член церкви должен обязательно уделять часть своих денег не только на содержание церковной общины, но и на помощь нуждающимся. Особенно это важно в богатых городах, таких как Москва.
Участие в социальной деятельности священников и архиереев
Сейчас, когда после 70 лет гонений служение милосердия только возрождается как общецерковное дело, помочь его возродить и организовывать должны священники и архиереи. Они должны побуждать к делам любви мирян, объяснять им их высокое значение.
1) Необходимо призывать их к более полному участию в церковных таинствах, объясняя, что церковные таинства совершаются всей общиной. И хотя участие в этом священника наглядно и очевидно, а мирянина – незаметно, однако прихожане должны понимать, что священнодействие совершается по общим молитвам, и без участия каждого Литургия не станет общим делом. Необходимо учить мирян навыкам духовной жизни, рассказывать о борьбе со страстями, о том, как нужно молиться. Без этого, как и без ответственного участия в церковной жизни, таинствах, без чтения Евангелия, невозможно творить дела милосердия, ведь они всегда связаны с большой самоотдачей и концентрацией всех душевных и духовных сил.
2) Необходимо побуждать прихожан заботиться друг о друге, напоминать им, что церковный приход – это не случайно оказавшиеся вместе люди. Он должен быть общиной, связанной духом любви. В общине не должно быть голодных, нуждающихся, одиноких, обездоленных. О них необходимо заботиться, как это было в первой христианской общине.
3) Нужно напоминать мирянам, что наша община – это не только наш приход, но и вся Церковь. И она должна быть большой дружной семьей. В нашей Церкви есть богатые приходы и бедные – как есть богатые и бедные епархии. И как во времена апостольские, собирались пожертвования для церквей, пребывающих в нищете (2 Кор. 8-9), так и сейчас богатые храмы и епархии должны обязательно помогать тем, кто нуждается. По слову апостола Павла, «не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка; а после их избыток в восполнении вашего недостатка» (2 Кор. 8, 13-14).
Категории нуждающихся
Итак, кто является тем самым ближним, кому должен помогать церковный народ?
1) Те, кто составляет единую с ним церковно-приходскую общину. Силами прихода можно организовать помощь попавшим в трудную ситуацию, лежащим в больнице или прикованным болезнью к своей постели, а также многодетным семьям. Им в современных условиях особенно трудно – несмотря на призывы поднимать рождаемость, реальной помощи им практически не оказывается.
2) Вся Церковь. Нужды бедных епархий и приходов можно решать сообща, так же как сообща нести попечение об общецерковных социальных проектах.
3) Люди, которые обращаются в храмы за помощью. Нужно каждого человека, который приходит в церковь, принимать с любовью, помня, что в образе нищих приходит к нам Сам Христос. Отвергать их на том основании, что среди таких людей много обманщиков, мы не можем. Ведь даже обманщики и пьяницы стали таковыми под влиянием непосильных несчастий. Мы не можем для всех сделать все, что они просят, но помочь им хотя бы в чем-то необходимо.
4) Люди, которые сами не могут прийти в церковь: дети-инвалиды, которые собраны в специальных учреждениях; больные, которые умирают в больницах; дети в детских домах; старики, не покидающие своих квартир; заключенные и другие. Это наиболее страдающие наши ближние, и наша обязанность – разделить их страдание, выразить свою любовь к ним заботой о них.
Мы часто придумываем для разных социальных и возрастных групп прихожан разные формы участия в церковной жизни. Мы забываем о том, что забота о нуждающихся, которые есть образ Самого Христа, эта «Литургия после Литургии», может объединить всех нас точно так же, как объединяемся мы для совершении Евхаристии. А для тех, кто остается пока за пределами Церкви, это служение любви станет, может быть, самой действенной сегодня формой проповеди.
Христианская Церковь изначально формируется Христом как собрание мирян, если откровенно и не противостоящее ветхозаветному духовенству (как клерикальному институту), но и во многом не согласное с ним. Таким образом, христианство с самого начала бросало вызов жреческой касте левитского священства, слишком обращенного вовнутрь себя, слишком неповоротливого и духовно антидинамичного.
Ещё ветхозаветные пророки обращали внимание на нравственную заторможенность ветхозаветного клира и его замкнутость самого на себя. «Так говорит Господь Бог: вот, Я – на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их» (Иез. 34, 10); и еще: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф» (Мал. 2, 7–8). В двух вышеприведённых цитатах мы видим и замкнутость духовенства самих на себя («пасут сами себя»), и уклонение от своих прямых обязанностей («хранить ведение»). Таким образом, фраза «разрушили завет Левия» указывает и на их самодисквалификацию и констатацию профнепригодности.
В христианском понимании проблемы Ветхозаветной церкви (в их библейском измерении) неизбежно указуют на возможные грядущие проблемы и самой христианской Церкви. Так, например, Христос неоднократно предупреждает апостолов беречься «закваски фарисейской и саддукейской» (Мф. 16, 6). Кстати! Высший церковный истеблишмент в то время в подавляющем большинстве и состоял из саддукеев (неообновленцев), включая саддукеев-первосвященников.
Сам апостол Павел проводил, в том числе, и прямые параллели между иудеями периода их разложения и христианами периода апостасии. Читаем: «Всё это происходило с ними (т. е. иудеями – О. С .), [как] образы; а описано в наставление нам (т. е. христианам – О. С .), достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10, 11–12). Предостережение: «кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» – прямое предупреждение и самим христианам опасаться повторить судьбу древних иудеев в их отпадении от Христа Спасителя (что отчасти и произойдёт в период апостасии). Обращаясь к более близким по отношению к нему временам, апостол Павел пишет: «Ибо я знаю, что, по отшествии моём, войдут к вам лютые волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою» (Деян. 20, 29–30).
Сам процесс апостасии (отступничества) может произойти только в Церкви, ибо отступить от Истины может только тот, кто когда-то и пребывал в Истине. Процесс какового отступничества в грядущем приобретет такие размеры, что и сам Сын Божий восклицает: «Но Сын Человеческий, придя, найдёт ли веру на земле?» (Лук. 18, 8).
Но! Церковь Христова всё же сохранится неразрушимо от адских врат (см. Мф. 16, 18), хотя и как «малое стадо», в единстве собрания трёхчинного духовенства (епископат, пресвитериат и дьяконат) и мирян – как основной составляющей Народа Божия. То есть Церковь сохранится именно как евхаристическая община Верных , причащающихся от Единой чаши Тела и Крови Господа Христа Иисуса!
Читаем: «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьёте чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придёт» (1 Кор. 11, 26). Словами «доколе Он придёт» и провозглашается тайна веры: Святая Евхаристия будет совершаться и до самого Славного Второго Пришествия.
«Проповедуя смерть по плоти Единородного Сына Божия, то есть Иисуса Христа, и исповедуя Его воскресение из мёртвых и вознесение на Небеса, мы совершаем в церквях бескровную службу, приступаем таким образом к таинственным благодарениям и освящаемся, становясь причастниками Святой Плоти и пречестной Крови Спасителя всех нас Христа» .
Именно Таинство Евхаристии делает весь Народ Божий тем, чем он и является по благодати: «род избранный, царственное священство, народ святой»!
«Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится. Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна, о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; [некогда] непомилованные, а ныне помилованы» (1 Пет. 2, 4–10).
То есть, «приступая к Нему» евхаристически, и обретаемся с Ним и в Нём, ВСЕ – как «священство святое... царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел»! Ведь и само Святое Причастие торжественно и предлагается нам, как «Святая святым»!
«Вот как [апостол] называет путь привлекаемых к созиданию Церкви Божией. Ведь посредством сращённости [в одно Тело] и согласия друг с другом посредством единомыслия и единства в слове, общности ума и воли [верные] созидаются в один дом Божий» .
Итак, евхаристически «посредством сращённости» в единстве Тела и Крови Христа-Царя и Христа-Первосвященника мы и сами становимся причастными Всеобщего Царственного Священства (!), «цари» и «священники» по благодати.
Следовательно, по отношению к сугубому священству миряне суть объект благословения; само же сугубое священство – объект молитвенного благословения мирян (молящихся за собственных пастырей и архипастырей). Ибо дело любого священника – благословение! Всеобщее священство, призывая сугубое из самих себя, делегирует им право сугубого благословения, не оставляя их и всеобщим молитвенным одобрением (благословением). Благословляя Бога Отца и Сына Его Иисуса Христа – подлинный источник любого благословения!
Читаем: «но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого всё тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви» (Еф. 4, 15–16).
Святитель Иоанн Златоуст пишет: «Слова его (т. е. Павла – О. С .) означают следующее: дух, выходя из головного мозга, не просто сообщает чувствительность всем членам посредством нервов, но делает это сообразно с каждым из них – тому, который способен принять больше, и сообщает больше, а который меньше – тому меньше (потому что дух есть корень жизни). Так и Христос: поскольку наши души так же зависимы от Него, как все члены тела – от духа, то Его промышление и раздаяние даров сообразно с мерой того или другого члена производят возрастание каждого» .
Уточнение «сообразно с мерою того или другого члена производит возрастание каждого» указывает на взаимодополняемость, имеющую место в служении каждого христианина, как священника, так и мирянина. Подобной точки зрения придерживается и апостол Павел.
Читаем: «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если всё тело глаз, то где слух? Если всё слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в [составе] тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где [было бы] тело?» (1 Кор. 12, 13–19).
Амвросиаст настаивает: «Так он говорит, поскольку множество членов, нуждающихся друг в друге, не расщепляется в единстве природы, сколь бы различны они ни были. Ибо различие это к одному стремится: чтобы отдача от тела была полной» .
Таким образом устанавливается, что единство и полнота церковного служения – взаимодополняемость клира и мирян. Причём функционально служение мирян в социальном аспекте церковной жизни более значительно, чем относительное социальное служение клириков, находящихся на их (мирян) иждивении.
Хотя в сакральном, невещественном смысле, священнослужители предоставляют мирянам нечто несравненно более значимое и на перспективу вечности более актуальное.
При этом мы не можем, исходя из концепции всеобщего царственного священства, сводить служение мирян в Церкви к социальной составляющей. И тому есть несколько причин:
- миряне и поставляют из своей среды кандидатов на священство;
- миряне сообщают в семье как в «домашней церкви» начальное религиозное образование, которое в древней Церкви и являлось единственным систематическим богословским образованием (до возникновения специальных церковных образовательных учреждений);
- миряне более эффективно осуществляют свой апостолат свидетельства о вере, чем нежели профессиональное духовенство, хотя бы в силу своей многочисленности;
- миряне – охранители веры в той же степени и более, в какой епископы являются ее выразителями и возвещателями;
- миряне, являясь объектом пастырского попечения духовенства, самим этим фактом оправдывают существование сугубого священства, в его отличие от всеобщего священства;
- миряне более эффективно участвуют в системе церковного образования и воспитания как в качестве профессуры, так и в качестве рядовых преподавателей и воспитателей;
- миряне значительно чаще участвуют в техническом сопровождении церковных программ и инициатив, также в сфере церковной журналистики и книгоиздания.
Об особом отношении к сугубому священству в Церкви со стороны мирян сказано: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас» (1 Фес. 5, 12).
Сщмч. Игнатий Богоносец писал: «Все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, а епископов, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет Церкви» .
Об особом отношении к мирянам в Церкви со стороны духовенства сказано: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример стаду» (1 Пет. 5, 1–3).
Святитель Иоанн Златоуст наставляет: «Христос говорит: кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою (Мф. 20, 26). А кто унижает себя, тот возвысится (Мф. 23, 12). Что ты говоришь: если смирю себя, буду высок? Да, говорит; таково Моё могущества, чтобы достигать одного посредством другого» . То есть Господь достигает «одного посредством другого», то есть слава пасомых – их пастыри, слава пастырей – их духовные чада.
Посему, оставив любые клерикальные и мирские предрассудки и самомнения, послужим друг другу тем даром, который уделил нам Бог, едиными устами и единым сердцем, под Единою Главою Церкви Христом Иисусом Господом нашим, Который и пришёл в этот мир «не [для того] ... чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20, 28).
«Как бы так сказал: Я не остановился на том только, чтобы послужить, но и душу Свою отдал в искупление; и за кого же? за врагов. Ты, если смиряешься, смиряешься для себя самого, а Я смиряюсь для тебя. Итак, не опасайся потерять честь свою через это. Сколько бы ты ни смирялся, никогда не можешь смириться столько, сколько смирился Владыка твой. Однако это уничижение Его сделалось возвышением для всех и открыло славу Его. Прежде нежели Он сделался человеком, известен был одним ангелам; а когда стал человеком и был распят, тогда не уменьшил ту славу, которую имел, но и приобрёл новую, будучи познан вселенною. Не бойся же потерять честь свою от того, что ты смиряешься; смирением более возвысится и распространится слава твоя. Оно есть дверь к Царству... Избери же последнюю степень и тогда получишь первенство; если желаешь быть великим, не ищи величия, и тогда будешь велик. Унижение то и составляет величие» .
Вывод очевиден: православный христианин, тем более священнослужитель, это человек для других людей! Будем помнить об этом и сего не забывать!
Прот. Олег Стеняев
«Миряне – это не стадо, это живое тело Христа, и духовенство – это не вожди и не начальники, а слуги. И к этому нам надо как-то вернуться, сознанием сначала вернуться».
Название статьи выбрано мной по аналогии со словами апостола Петра, называющего верных христиан «Царственным священством» (1 Пет. 2:9). Эти слова апостола столь высоки, что могут быть сравнимы с колоссальной симфонией, в которой можно выделить 4 важных партии, или темы.
Святой Феофан Затворник: «Жизнь семейная и гражданская сама по себе не есть мирская, а бывает такою, когда в порядки такой жизни втесняются страсти и удовлетворение их».
Часто вам придётся слышать мысль, противоположную высказыванию святого Феофана. Людям кажется, что Церковь – это монахи и священники, а все остальные – миряне и статисты, которые не играют особой роли в церковной жизни. Такое мнение исходит из непонимания того, что Церковь есть тело Христово, где каждый несёт своё служение. И служение предстояния в общине и духовного совета (священническое) хотя и важное, но не единственное. Каждый человек Церкви равно важен для Господа. А людское достоинство измеряется не саном, а личной благодатью человека.
Существует такое понятие, как «лаик» – верный христианин. Любой человек, который крещён и живёт церковной жизнью, – это лаик. А священник – это одно из церковных служений. Кто-то церковный сторож, кто-то священник, кто-то учитель, кто-то иконописец, а кто-то мама христианского ребёнка и т. д. Священническое служение очень важно, но оно не отменяет всех других служений и не возвышается над ними, так как Церкви вообще чужда идея возвышения в смысле превозношения. Священник есть слуга всем по любви ко всем.
Митрополит Антоний Сурожский:
«Миряне – это не стадо, это живое тело Христа, и духовенство – это не вожди и не начальники, а слуги. И к этому нам надо как-то вернуться, сознанием сначала вернуться. Надо учить людей и начать с себя самого. То есть священник или епископ поставлен вести народ в эту тайну освящения мира, но каждый на своем месте должен быть готовым жизнь свою отдать. И когда я говорю “жизнь отдать”, я не говорю романтически о том, чтобы умереть в пытках и т. д., но отдать каждый день, каждый час своей жизни на то, чтобы все вокруг было освящено.
Миряне, которых апостол Петр определяет как царственное священство, народ святой, храм Святого Духа.
А что такое царственное священство? У нас в епархии был в этом году съезд на эту тему, о мирянах, о царственном священстве в частности. Если прислушаться к святому Максиму Исповеднику, то он говорит, что человек был создан для того, чтобы всю тварь привести к Богу, что он создан как участник двух миров: вещественного и духовного, он в себе совмещает эти два полюса. И в этом смысле всякий верующий в Церкви является священником, то есть человеком, который освящает тварь, который делает ее святой, что значит – Богу посвященной и пронизанной Божественной благодатью. Это призвание каждого христианина, не только священника; у священника есть своя задача, о чем я еще скажу. И мирянин это не только человек, который живет “в миру”, это человек, который Христом послан в мир для того, чтобы все, к чему он прикоснется, сделать святыней: он священник в этом отношении».
Своей жизнью мы освящаем или оскверняем мир.
Мир освящает человек, хоть в какой-то степени причастный благодати Святого Духа. Эта благодать даётся нам в крещении, но может ничем не проявиться, если человек хоть как-то не живёт по-христиански. Поэтому апостол и говорит: «Кто духа Христова не имеет, тот и не Его». Но, к счастью, большинство православных людей, хотя и каждый в свою меру и по силе жития, причастны Духу. Это очень важно, потому что именно так освящается мир – их причастием Духу. Один из современных старцев говорил, что жить надо так, чтобы вся жизнь стала богослужением.
Оскверняет человек мир, когда живёт по страстям, но мы всё равно должны и помнить, и чувствовать что «по своей божественной, логосной сути, жизнь есть рай» (слова святого Иустина Сербского). Очень важно то, что святые, несмотря ни на что, пасхально и радостно видят мир, а жизнь и вправду есть рай, когда человек с Богом.
Пасхальное видение мира – это реальное чувство, что Бог до последней глубины рядом и родной. Отсюда рождается чувство ненапрасности каждой секунды твоей личной жизни и чувство, что ты живёшь как в сказке. В этой сказке может быть и дракон, но ты знаешь, что дракон будет обязательно побеждён и не разорит волшебное царство. Бог возвышает тебя над твоими страданиями, и они превращаются в испытания, одновременно Господь постоянно говорит твоей душе, что всё и окончится хорошо, и сейчас уже хорошо. В общем, пасхальное видение мира – это Царство Небесное, которое хоть в малой степени может быть в сердце человека: «Царство Божие внутри вас есть».
Старец Паисий Афонский в «Семейной жизни» также говорит об этом: «Есть миряне, живущие очень духовно. Они живут как подвижники: соблюдают посты, совершают службы, молятся по чёткам, кладут поклоны – несмотря на то что у них есть дети и внуки. По воскресеньям такие люди идут в церковь, причащаются и снова возвращаются в свою "келью", подобно пустынникам, которые в воскресный день приходят в соборный храм скита и потом опять безмолвствуют в своих каливах. Слава Богу, в мире много таких душ. И если говорить конкретно, то я знаю одного главу семьи, который постоянно творит Иисусову молитву – где бы он ни находился. Этот человек всегда имеет в своей молитве слёзы. Его молитва сделалась самодвижной, и его слёзы сладки, это слёзы божественного радования. Помню и одного рабочего на Святой Горе. Его звали Янис. Он трудился на очень тяжёлых работах и работал за двоих. Я научил его творить во время работы Иисусову молитву, и постепенно он к ней привык. Однажды он пришел ко мне и сказал, что, творя Иисусову молитву, чувствует большую радость. "Забрезжил рассвет", – ответил я ему. Прошло немного времени, и я узнал, что этого человека убили два пьяных хулигана. Как же я заскорбел! Прошло еще несколько дней, и один монах стал искать инструмент, который Янис куда-то положил, но не мог найти. И вот Янис явился ему во сне и сказал, куда он положил этот инструмент. Этот человек достиг духовного состояния и мог помогать другим и из жизни иной».
Любое дело, которое делает человек благодатный, молящийся и верный, освящается.
Люди реально меняют мир своей жизнью: или оскверняют его, или освящают. Добрая православная девушка Лена Редкокаша варила суп и злилась на мужа – и суп быстро прокис. А в другой раз она варила суп с любовью к мужу и молитвой – и муж её несколько месяцев ещё вспоминал, какой в тот день был вкусный суп.
Когда жених этой девушки принёс ей цветы, они стояли и не увядали неестественно долго. Так на них реально подействовала его любовь.
Конечно, в житиях есть фрагменты и о том, что подвижник отказывался есть принесённую ему кем-то пищу и говорил: она приготовлена со тщеславием, страсть осквернила её.
Схиигумену Иоанну Алексееву прислали по почте арбуз, который лопнул в пути и намочил много других писем. Схиигумен Иоанн объяснил девушке-адресату, что она посылала арбуз тщеславясь тем, что делает.
У старца Григория Давыдова был подобный случай. Келейница принесла ему чай. Он не стал пить, а спросил, молилась ли она, когда готовила. Она сказала, что не молилась. И старец ответил, что чай пить невозможно, и велел забрать его.
Известна история, когда князь приехал к святому Феодосию Печерскому и попробовал там монастырскую еду. Всё было очень вкусно, хотя еда была самая простая. Князь удивился и спросил: почему у него, князя, знаменитые повара, а не так вкусно всё, как у монахов. И святой ответил, что повара, когда готовят, не любят друг друга и обижают друг друга и поварят. Их страстные сердца извращают окружающий их мир. А в монастыре всё готовят монахи любя друг друга и с молитвой. Оттого всё и необыкновенно вкусно.
Если кто был в Никольском монастыре (где кормят всех приезжих), тот знает, какая там необыкновенно вкусная еда, хотя и очень простая. Это происходит по той же причине.
Освящение и осквернение мира касаются вообще всего, что делает человек и что его окружает, а не только еды. Одежда святого может исцелить человека потому, что освятилась его благодатью.
Когда умер в 1920 году святой Нектарий Эгинский, с него врачи сняли рубашку и положили её на кровать парализованного. И тот мгновенно исцелился. Бинты, которые сняли со святого, благоухали. В той больнице, где он умер, на его кровать ещё много лет клали безнадёжно больных – и те выздоравливали.
Молитва и благодать человека преображают мир, меняют сердца других людей, делают их более чуткими к добру и свету.
Игумен Никон Воробьёв: «Общее правило: в любом возрасте, в любых условиях, при любых занятиях надо поступать по Евангелию. Тогда не будет ошибок, не будет позднего сожаления и раскаяния».
Святой Иоанн Лествичник: «Всё доброе, что только можете делать, делайте».
История, записанная в древнем патерике:
«Брат спросил старца:
– Какое бы мне делать доброе дело и жить с ним?
Старец отвечал:
– Бог знает, что – добро. Я слышал, что некто из старцев спрашивал авву Нестероя: “Какое бы доброе дело сделать мне?” Авва отвечал ему: “Не все ли дела равны?” Писание говорит: “Авраам был страннолюбив, – и Бог был с ним; Илия любил безмолвие, – и Бог был с ним; Давид был кроток, и Бог был с ним”. Итак, смотри, чего желает по Богу душа твоя, то делай и блюди сердце Твоё».
Святой Симеон Новый Богослов: «Многие сочли блаженной отшельническую жизнь, другие – смешанную, то есть общежительную, иные же предпочли предстоятельствовать над народом, быть наставниками, заниматься преподаванием и строить церкви... Я же ни одно из этих дел не предпочел бы другому и не сказал бы, что одно заслуживает похвалы, а другое порицания. Но во всем и во всех делах и действиях всеблаженна жизнь для Бога и по Богу».
Митрополит Иларион Алфеев: «Далее преподобный Симеон говорит о том, что человеческая жизнь составляется из различных наук и искусств, причем каждый разрабатывает и привносит свое, впрочем, всякий путь жизни бесполезен, если он не ведет к Богу и ко спасению.
Эти слова можно взять в качестве отправного пункта. Действительно, все мы живем очень разной жизнью: кто-то из нас служит в церкви, кто-то посвящает себя искусству, науке, есть среди нас актеры, музыканты, дипломаты, бизнесмены, учителя, литераторы, одним словом, люди самых разных профессий. Но чем бы мы ни занимались, мы можем посвящать свой труд Богу. Профессия может быть не только способом заработать на хлеб, но и путем христианского доброделания. И для того, чтобы стать истинным христианином, как правило, не надо бросать одну профессию и избирать другую.
Я знаю одного композитора, который, обратившись в православную веру, пришел к священнику и спросил, что ему делать. "Бросай музыку и становись церковным сторожем”, – ответил священник. К счастью, композитор его не послушался. Впоследствии, будучи в Англии, он встретился со старцем Софронием, учеником преподобного Силуана, и задал ему тот же вопрос. "Продолжайте писать музыку, и Вас узнает весь мир”, – сказал ему старец. Вскоре имя этого композитора стало известно всему миру. Сейчас он пишет произведения только религиозной тематики (он, например, положил на музыку некоторые слова преподобного Силуана), и многие через его музыку приходят к православной вере. Будучи человеком глубоко верующим и церковным, он своей музыкой помогает людям сойти в те глубины духовной жизни, где происходит встреча между человеком и Богом».