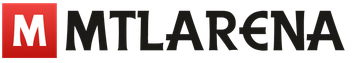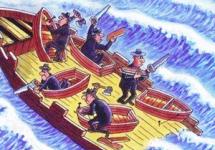ОТХОЖИЕ ПРОМЫСЛЫ (ОТХОДНИЧЕСТВО),
характерное явление жизни крест-ва Ряж. у. во 2-й пол. XIX – 1-й трети XX в. О. состояло во временном уходе крестьян из деревень в города и др. сел. р-ны в поисках работы и денежных заработков. Как соц. явление О. свойственно большинству стран и народов, переходящих от традиционного об-ва к индустриальному. В Ряз. губ. О. появилось еще во 2-й пол. XVIII в., но первоначально затронуло только ее сев. уу. Крест-во Ряж. у. было вовлечено в О. после крест. реформы 1861. В 1870-е особую роль играл в Ряж. у. отход на строит. работы (до 800 – 1000 плотников в г.). С 1890-х все большее распространение стал принимать О. на фабрично-заводские пр-тия. Даже в 1890-е Ряж. у. занимал одно из последних мест по числу крестьян, ушедших в О. (ок. 12% по сравнению с 30 — 50 % в др. уу.). Их в это вр. насчитывалось ок. 5 — 7 тыс. (из них ок. 2,6 тыс. получали паспорта на неск. лет, остальные — билеты, разрешающие отсутствие в постоянном месте жительства на неск. мес.). Помимо найма на ф-ки, их осн. занятием были ремонтные работы на ж. д. и летние с.-х. работы в юж. губерниях. С 1890-х в О. стали включаться и женщины (ок. 0,4 % жен. нас. – до 200 чел.). Причинами О. были рост обществ. разделения труда и рыночных отношений, агр. перенаселение и процесс соц. расслоения крест-ва. Крестьяне-отходники являлись одной из самых активных частей крест-ва, быстро втягиваясь в нов. формы обществ. жизни, перенося их из города в деревню. В период «военного коммунизма», в связи с натурализацией хоз-ва и разрухой, О. прекратилось и возобновилось в период НЭПа. В 1925-26 в отход из Ряж. у. ушло ок. 9,7 тыс. чел., в т. ч. 2,7 тыс. плотников, 2,4 тыс. разнорабочих, 1,7 тыс. ведерников и жестянщиков. После коллективизации на смену О. пришли др. формы миграции крест. в города.
Ист. и лит.; Свод данных об экономическом положении крестьян Рязанской губернии.- Рязань, 1892; Еропкин А.В. Отчет Ряжского податного инспектора за 1895 г. — Ряжск, 1896; Гаузнер М. Отхожие промыслы в Рязанской губернии // Вестник Рязанского губернского земства. — 1916. -№ 4-5; Селиванов А.В. Отхожие промыслы в экономике крестьян Рязанской губернии в прошлом и настоящем //Наше хозяйство. — Рязань, 1926. -№ 1-2; Огризко З.А., Шмаков В. Т. Крестьяне-отходники Рязанской губернии в конце XIX — начале XX веков // Историко-бытовые экспедиции. — М., 1955; Щагин Э.М. К характеристике отхожих промыслов крестьян Центрально-Черноземного района России в конце XIX в. // Ученые записки Хабаровского педагогического института. — Т. 10. — Хабаровск, 1962; Степанова Е.С. Развитие отхожих крестьянских промыслов в Рязанской губернии 70-80-х годов XIX в. // Вопросы общественного и социально-экономического развития России в XVIII — XIX вв. (по материалам центральных губерний). — Рязань, 1976; Рындзюнский П.Г. Крестьянство и город в капиталистической России второй половины XIX в. — М., 1983.
в России - временный уход крестьян из деревень в р-ны развитой индустрии и на с.-х. работы в более или менее отдаленные р-ны. Впервые зародилось в период позднего феодализма (примерно с 17 в.) как одно из проявлений развивающегося процесса отделения пром-сти от земледелия в условиях страны с небольшим процентом гор. населения и господством крепостничества. Со временем О. становится также одним из характерных проявлений разложения феодализма и вбирает в себя массу крестьян, прибегавших к "сторонним заработкам" вследствие усиления феод. эксплуатации. Тесно связанное с развитием рынка, ростом наемного труда, расширением сферы хоз. деятельности крестьян, О. с развитием капиталистич. отношений превращается в могучий фактор, благоприятствующий процессу разложения крестьян на бурж. верхушку и бедняков-пролетариев. В 1-й пол. 18 в. общий процент крестьян-отходников был незначителен. Во 2-й пол. 18 в. масса отходников резко возрастает. Наиболее сильно отход был развит в Центр.-пром. р-не. Так, в Моск. губ. в кон. 18 в. ежегодно выдавалось ок. 50 тыс. паспортов, в Ярославской губ. - 74 тыс. (т. е. в отходе находилась примерно треть взрослого населения губ.). В 1828 отход гос. и помещичьих крестьян по 54 губ. России был равен 575 тыс. (число выданных паспортов). Свойственное большинству капиталистич. стран О. становится характернейшей особенностью России в пореформ. период, когда оно делает резкий скачок в своем развитии. В основе его лежит процесс разложения крестьянства как класса, а также рост обществ. разделения труда, рынка и развитие т. н. агр. перенаселения. По 50 губ. в среднем за год выдавалось краткосрочных паспортов: в 1861-70 - 1286 тыс., в 1881-90 - 4938 тыс.; в 1901-10 - 8873 тыс. Т. о., ежегодный отход с 1861 по 1910 возрос семикратно, а в 1906-10 был равен в среднем за год ок. 9400 тыс. (паспортов). Неземледельч. отход составлял более половины общего числа крестьян-отходников. Важное хоз. значение имел также отход крестьян центр.-промышл. губ. в колонизующиеся р-ны Востока и Юга. С развитием капитализма вширь темпы роста О. в Центр.-пром. р-не постепенно замедляются. Так, доля моск. пром. отхода в среднем за год составляла в 1861-70 - 32,9%, а в 1906-10 - только 22,3%. При этом отход в Приуралье, Прибалтику, Юго-Зап. р-ны и в Новороссию резко возрастает. О. глубоко влияло на быт крестьян-отходников, включавшихся в пром. население страны. Лит.: Ленин В. И., Развитие капитализма в России, Полн. собр. соч., 5 изд., т. 3 (т. 3); Ленский Б., Отхожие неземледельч. промыслы в России, "Отечеств. зап.", 1877, No 12, отд. 2; Шаховской Н. В., С.-х. отхожие промыслы, М., 1896; Жбанков Д. Н., Отхожие промыслы в Смоленской губ. в 1892-1895, Смоленск, 1896; Воробьев К. Я., Отхожие промыслы крест. населения Ярославской губ., Ярославль, 1907; Владимирский H. H., Отход крестьянства Костромской губ. на заработки, Кострома, 1927; Рашин А. Г., К вопросу о формировании рабочего класса в России в 30-50 гг. XIX в., ИЗ, т. 53, М., 1955; Панкратова А. М., Пролетаризация крестьянства и ее роль в формировании пром. пролетариата России (60-90-гг. XIX в.), ИЗ, т. 54, М., 1955; Дружинин Н. M., Гос. крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. 2, М., 1958. Л. В. Милов. Москва.
Путями-дорогами крестьян, уходивших на время из родной деревни для заработков на стороне, пересечена была Россия во всех направлениях. Уходили на близкие, дальние и очень далекие расстояния, с севера на юг и с запада на восток. Уходили, чтобы вернуться в намеченный срок, и приносили из чужих мест не только деньги или купленные вещи, но множество впечатлений, новых знаний и наблюдений, новых подходов к жизни. Село Суганово Калужского уезда - центральная часть Европейской России, что называется, коренная Русь. Из него уходили на заработки в164 конце XIX века в Москву, Одессу, Николаев, Екатеринославль и другие города. В отход отправлялась здесь преимущественно мужская молодежь, даже подростки - до солдатской службы. Редкий мужчина этого села не побывал на заработках. Иногда уходили и девушки: няньками, кухарками в рабочих артелях земляков. Но в других местах женский уход на заработки, как правило, осуждался. Вот информация того же времени из Дорогобужского уезда Смоленщины. На заработки здесь тоже уходят преимущественно молодые парни, но еще и вернувшиеся со службы солдаты. Отходом «почти все» занимались по своей охоте. Это «почти» относится, по-видимому, к тем случаям, когда парня посылала на заработки семья, большак. Ушедший непременно присылает деньги семье. Женщины.же, за редким исключением, никогда не ходят на заработки.
Автор информации решительно относит это утверждение и к девушкам, и к женам, и к вдовам. В Петрозаводском уезде Олонецкой губернии уже в 30-х годах прошлого века выдавалось ежегодно примерно 2 тысячи письменных видов для поездок в Петербург и другие города - вне своей губернии. В это число входили не только отходники, но и торгующие крестьяне. Многие волости Петрозаводского уезда специализировались на определенных видах ремесел, которыми занимались их крестьяне в отходе, имели соответствующую репутацию и за пределами Олонецкой губернии. Кижские - столяры и конфетчики (их можно было встретить за этим занятием в Петербурге); рыборецкие - отличные, по замечанию современника, каменотесы; остречинские - стекольщики, толвуйские - плотники.
А волости, прилежащие к Онеге, «отличаются искусными и бесстрашными судоходцами». Если хозяйство крестьянской семьи было небольшим и рабочих рук в семье было больше, чем нужно, то на отхожие заработки уходили «лишние», надолго, иногда даже года на три, покидая семью. Но большинство отходников оставляло семью и хозяйство лишь на ту часть года, когда нет полевых работ. В центральном районе наиболее распространенный срок отходничества был от Филиппова заговенья (14/27 ноября) до Благовещенья (25 марта/7 апреля). Срок отсчитывали по этим вехам, так как они были постоянными (не относились к передвижной части церковного календаря). В некоторых сезонных работах, например, строительных, сроки найма могли быть и другими. Отхожие промыслы были очень разными - и по видам занятий, и по своей социальной сущности. Крестьянин-отходник мог быть временным наемным рабочим на фабрике или батраком в хозяйстве зажиточного крестьянина, а мог быть и самостоятельным ремесленником, подрядчиком, горговцем. Особенно большого размаха отходничество достигло в Московской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Костромской и Калужской губерниях. В них отход для заработков на сторону был массовым уже в последней четверти XVIII века и далее возрастал.
Для всего центрального района главным местом притяжения отходников была Москва. До реформы преобладающую часть отходников в центральном промышленном районе составляли помещичьи крестьяне. Это обстоятельство заслуживает особенного внимания при выяснении возможностей выхода интересов и реальной деятельности крепостного крестьянина за пределы своей волости. Любители порассуждать о пассивности и прикрепленности к одному месту большей части населения дореволюционной России как бы не замечают этого явления. Владимирская губерния издавна славилась мастерством плотников и каменщиков, каменотесов и штукатуров, кровельщиков и маляров. В 50-х годах XIX века из этой губернии на заработки в Москву ходили 30 тысяч плотников и 15 тысяч каменщиков. Отправлялись в Белокаменную большими артелями. Обычно главой артели (подрядчиком) становился крестьянин «позажиточнее и поизворотливее» других. Он сам подбирал из165 односельчан или жителей ближайших селений членов артели. Иные артельщики из крестьян брали в Москве крупные подряды, собирали артели по нескольку сот человек. Такие большие артели строителей делились на части, под наблюдением десятников, которые, в свою очередь, со временем выходили в подрядчики.
В числе специальностей, которыми славились владимирские крестьяне на отходе, видное место занимало своеобразное занятие офеней. Офени - торговцы мелким товаром вразноску или вразвозку. Они обслуживали преимущественно деревню и малые города. Торговали они главным образом книгами, иконами, бумагой, лубочными картинками в сочетании с шелком, иглами, серьгами, колечками и пр. Всреде офеней издавно был в ходу свой «офенский язык», на котором разносчики товара говорили между собой во время торговли. Особенно распространено было отходничество на офенский промысел в Ковровском и Вязниковском уездах Владимирской губернии. В описании, поступившем в Географическое общество в 1866 году из Вязников-ского уезда, сообщалось, что многие крестьяне из больших семей с Успенья (15/28 августа) отправляются офенями. «Отходили» обычно на одну зиму. Иные оставляли «даже молодых жен». Многие из них к 21 ноября (4 декабря) спешили попасть на Введенскую ярмарку в слободе Холуй. Вязни-ковские офени ходили с товаром в «низовые» губернии (то есть по нижней Волге), Малороссию (Украину) и Сибирь. В конце Великого поста многие из офеней возвращались по домам «с подарками семье и деньгами в оброк». После Пасхи возвращались уже все с офенского промысла и принимали участие в земледельческих работах. Офени-вязниковцы были известны и за пределами России. В источнике середины XVIII века сообщалось, что они издавна «отходили со святыми иконами в дальние страны» - в Польшу, Грецию, «в Славению, в Сербы, Болгары» и другие места. В 80-х годах XIX века офени Владимирской губернии скупали образа в Мстере и Холуе и обозами отправляли их по ярмаркам «от Восточной Сибири до Турции».
При этом в отдаленных местах они принимали заказы для следующего привоза. О масштабах торговли владимирских офеней иконами в Болгарии в последней четверти XIX века говорит такой любопытный факт. В селе Горячеве (Владимирской губернии), которое специализировалось на изготовлении разного рода экипажей, офени заказали весной 1881 года 120 телег особой конструкции, приспособленных специально для перевозки икон. Телеги предназначались для развоза палехских, холуйских и мстерских икон по Болгарии. Большую изобретательность в отхожих заработках в Москве проявили ярославские крестьяне. Они стали, в частности, инициаторами разбивки огородов на пустошах большого города. Дело в том, что Ярославская губерния имела богатый опыт в развитии огородничества. Особеннс славилось в этом отношении крестьянство Ростовского уезда. В конце XVIII - начале XIX века ростовские крестьяне имели уже немало огородов на территории Москвы и в ее окрестностях. Только по годовым паспортам из Ярославской губернии в 1853 году для огородничества ушло околс 7000 крестьян. 90 процентов из них направилось в Москву и Петербург Огородники (как и другие отходники) очень различались по характеру и размерам дохода. Одни ростовские крестьяне имели в Москве собственные огороды на купленных или арендованных землях. Другие нанимались в работники к своим односельчанам. Так, в 30-50-х годах XIX векг в Сущевской и Басманной частях Москвы, а также в Тверской-Ямской слободе были обширные огороды богатых крестьян из села Поречье Ростов ского уезда.
Они широко пользовались наймом своих земляков. Сдача участков в аренду крестьянам-огородникам приносила зна чительный доход московским владельцам земли. Если это были помещики они сдавали иногда свою московскую землю в аренду под огороды собст венным крепостным крестьянам. У С. М. Голицына, например, арендова/ большой участок его ярославский крепостной Федор Гусев. Нередко та кой166 участок арендатор, в свою очередь, сдавал мелкими частями в субаренду односельчанам. Ярославские крестьяне занимались в Москве не только огородни чеством. Нередкими среди них были также профессии разносчика, сидель ца в лавке, парикмахера, портного и особенно трактирщика. «Трактирщир не ярославец - явление странное, существо подозрительное»,- писа; И. Т. Кокорев о Москве сороковых годов прошлого века. На специализацию в отхожих промыслах целых районов или от дельных селений заметное влияние оказывало их географическое положение. Так, в Рязанской губернии, в близких от Оки селениях, главным отхожим промыслом служило бурлачество. По рекам Оке и Проне занимались также хлебной торговлей. Более зажиточные крестьяне участвовали в поставке хлеба купцам, а крестьяне победнее в качестве мелких поверенных купцов (шмыреи) скупали небольшие запасы хлеба у мелкопоместны) землевладельцев и крестьян.
Другие зарабатывали извозным промыслом связанным с хлебной торговлей: доставляли зерно на пристани. Иные работали на пристанях на набивке кулей, нагрузке и выгрузке судов. В степной части Рязанской губернии успешно развивался отхожий промысел шерстобитов. Традиции профессионального умения сложились здесь на основе местного овцеводства. Шерстобиты отправлялись на Дон, в Ставрополье, в Ростов, Новочеркасск и другие степные места. Больше всего шерстобитов было в селах Дурном, Семенске, Пронских слободах, Печерниках, Троицком, Федоровском и соседних с ним деревнях. Для битья шерсти и валянья бурок уезжали на юг на подводах. Некоторые шерстобиты оставляли родные места на год, но большинство отходничало в степных местах только после уборки хлеба и до следующей весны. В лесистых районах той же Рязанщины преобладали промыслы, связанные с деревом.
Однако конкретный вид их зависел уже от местной традиции, создавшей свои приемы, свою школу мастерства. Так, ряд сел Спасского уезда специализировался на бондарном ремесле. Крестьяне занимались им и на месте, и отправлялись по паспортам в южные, виноградарские районы России, где их мастерство пользовалось большим спросом. Основным центром бондарного промысла в Спасском уезде было село Ижевское. Ижевцы часть материала для изготовления бочек заготовляли дома. Как только вскрывалась река, грузились с этим материалом на большие лодки целыми партиями и отплывали в Казань. В Казани шла основная подготовка бочарных дощечек, после чего рязанские бондари двигались на юг. В Егорьевском уезде Рязанской губернии многие селения специализировались на выделке деревянных берд, гребней и веретен. Бердо принадлежность ткацкого станка, типа гребня. Егорьевцы сбывали берды на сельских рынках Рязанской, Владимирской и Московской губерний. Главный же сбыт их шел -в южных районах - Области ВойскаДонского и на Кавказе, а также на Урале. Туда их доставляли скупщики из егорьевских крестьян, которые из поколения в поколение специализировались на этом виде торговли. В понятиях жителей Дона и Кавказа занятие бердов-щика прочно связывалось с происхождением из егорьевцев. Товар у своих соседей скупщики-бердовщики забирали в кредит и отправлялись на подводах в степные края.
На одной подводе вывозили примерно две с половиной тысячи берд, веретен и гребней. В местах вывоза товара, в станицах и других селениях, у егорьевских крестьян были знакомые и даже приятели. Эти отношения нередко передавались по наследству. Южане с нетерпением ждали в определенные сроки далеких гостей - с их товаром, гостинцами и рассказами новостей. Уверенность в приветливом приеме, даровом содержании у знакомых, привольной пастьбе для усталых лошадей - все это подвигало егорьевских крестьян сохранять этот вид отходничества. Возвращались со значительным барышом. В образе жизни крестьян-отходников в больших городах складывались свои традиции. Этому способствовала определенная спаянность их, 167 связанная с выходом из одних и тех же мест, специализация на данном виде заработков на стороне. Например, некоторые селения Юхновско-го уезда Смоленской губернии регулярно поставляли в Москву водовозов. В Москве приехавшие на промысел смоленские крестьяне объединялись по 10, а то и 30 человек.
Совместно нанимали квартиру и хозяйку (матку), которая готовила им еду и присматривала за порядком в доме в отсутствие водовозов. Заметим попутно, что обслуживание в прошлом больших городов жителями деревень, приезжавшими туда на время и возвращающимися домой, к своим семьям, напоминает внешне тот самый «челночный» метод работы в сельской местности, о котором помышляют сейчас иные экономисты. Отчасти он и реализуется сейчас не очень-то успешно во временных «откомандированиях» или коллективных выездах горожан в поле. А тогда он шел в обратном направлении. Большинство населения страны жило в здоровых условиях сельской местности. Часть сельского населения «челночно» обеспечивала рабочей силой промышленность (практически все виды промышленности использовали труд отходников) и, если использовать современный термин сферу обслуживания: извозчики, водовозы, горничные, няни, приказчики, трактирщики, сапожники, портные и пр. К этому следует добавить, что и из помещиков многие жили и служили в городе временно, затем возвращались в свои имения.
Современники по-разному оценивали значение отходничества в крестьянской жизни. Часто отмечали дух самостоятельности, независимости у поработавших на стороне, особенно в больших городах, подчеркивали осведомленность отходников в самых разнообразных вопросах. Например, фольклорист П. И. Якушкин, немало походивший по деревням, писал в 40-х годах XIX века о Ранненбургском уезде Рязанской губернии: «Народ в уезде более, нежели в других местах, образован, причина чего ясная -многие отсюда ходят на работы в Москву, на Низ (то есть в уезды в низовьях Волги.- М. Г.), набирают уму-разуму». Но многие - в статьях, частной переписке, ответах с мест на программы Географического общества и Этнографического бюро князя Тенишева - выражали беспокойство по поводу урона нравственности, который наносил отход. Нет сомнения в том, что поездки в новые места, работа в других условиях нередко и жизнь в иной среде - все это расширяло кругозор крестьянина, обогащало его свежими впечатлениями, разнообразными знаниями. Он получал возможность непосредственно увидеть и понять многое в жизни городов или отдаленных и отличных от его родных мест сельских краев. Известное понаслышке становилось реальностью. Развивались географические и социальные понятия, шло общение с обширным кругом лиц, делившихся своими суждениями. И. С. Аксаков, проезжая в 1844 году через Тамбовскую губернию, писал своим родителям: «На дороге попался нам ямщик, который бывал в Астрахани и ездил там извозом. Он очень хвалил эту губернию, называя ее народною и веселою, потому что там всяких племен много и летом отовсюду нахлынивают мужики на рыбную ловлю.
Я удивляюсь, как русский человек отважно отправляется на дальний промысел в места, совершенно чуждые, а потом возвращается на родину, как будто ни в чем не бывало». Но достаточно очевидна и другая сторона отходничества: оставляемые надолго семьи, холостяцкий образ жизни ушедшего, иногда поверхностное заимствование городской культуры в ущерб традиционным нравственным устоям, привитым воспитанием в деревне. И. С. Аксаков в другом письме из этой же поездки напишет об астраханском отходничестве со слов ямщика соседней губернии: «Кто раз отправился в Астрахань, тот весь переиначивается, забывает все домовое и вступает в артель, состоящую из 50, 100 и более человек.
У артели все общее; подступая к городу, она вывешивает свои значки, и купечество спешит отворить им свои ворота; свой язык, свои песни и прибаутки. Семейство для такового исчезает…»168 Тем не менее крестьянская «закваска» для многих оказывалась сильнее поверхностных отрицательных влияний. Сохранению добрых традиций способствовало и то, что на отходе крестьяне, как правило, держались своих земляков - за счет артельности в работе и быте, взаимной поддержки в определенных профессиях. Если отходник действовал не в артели, а индивидуально, он все-таки обычно устраивался на жительство у односельчан, перебравшихся совсем в город, но сохранявших тесную связь со своими родственниками в деревне.
Общественное мнение крестьянской среды сохраняло здесь в определенной мере свою силу. Дорогами переселенцев и отходников, богомольцев и ходоков с прошениями, скупщиков и торговцев, ямщиков и солдат исходил и изъездил русский крестьянин великое свое Отечество. С горячим интересом слушал он у себя дома вести о том, что делается на Руси, толковал о них и спорил с односельчанами. Решал на общинном сходе, как лучше применить старый и новый закон к своим крестьянским делам. Многое знал о прошлом России, складывал о нем песни, хранил предания. Память о подвигах предков была для него такой же своей и простой, как наставления отцов о мужестве ратника. Осознавал крестьянин и свое место в жизни Отечества - долг и роль свою хлебопашца, кормильца. «Мужик - мешок есть, хлебец у него - все есть»,- говорил историку А. П. Щапову старик крестьянин с заимки Амгинской слободы в Восточной Сибири в 70-х годах прошлого века. «Хлебец его деньги, его чай-сахар. Мужик - работник, работа его капитал, его Божье назначение».
Щапов записал и высказывание другого крестьянина из Подпругинского села на эту же тему: «Мужики - не купцы, а крестьяне, работники хлебопахотные: им не капиталы копить, а вырабатывать нужные для дому, для семьи достатки, да за добрые труды быть словутными, почетными в миру, в обществе». Уважение к своему труду пахаря и осознание себя частью большой общности крестьян вообще, мужиков вообще, для которой это занятие является основным, сопровождалось нередко прямой оценкой роли этой деятельности в жизни государства, Отечества.
Это бывало, в частности, во вводной части прошений. Прежде чем приступить к изложению конкретной просьбы, крестьяне писали о значении земледельческого труда в целом. Так, крестьяне Бирюсинской волости Нижнеудинского округа писали в 1840 году в прошении, адресованном ревизору государственных имуществ: «Крестьяне по природе вселены иметь прямое занятие земледелием, хлебопашество хотя и многих неусыпных трудов и бдительного попечения требует, но самым невинным образом доставляет крестьянину-земледельцу за труды довольную награду плодородием, к сему бдительное начальство неоднократно давало поощрения и понуждения своими наставлениями, каковые и поныне в Высочайшей Воле продолжаются».
Отходничество – один из вариантов экономической деятельности, существовавший в среде крестьянства и распространенный в России XVIII – начала XX веков. Явление массового ухода крестьян из деревень на заработки было подготовлено царским указом 1718 года, велевшим заменить подворное обложение подушной податью с мужского населения, независимо от возраста. Занятие отходными промыслами были широко развито на территории Ярославского края уже с XVIII века. Пик отходничества приходится на 40-е–50-е годы XIX века и пореформенное время. В 1842 году в отходе было по губернии 48639 чел., в 1843 году – 54703 чел., в 1844 году – 60077 чел., в 1850 году – 53831. Отходничество – явление для ярославского крестьянского мира массовое. В Любимском уезде в 1901 году находилось в отходе 12700 человек, что составляло половину трудоспособного мужского и четверть женского населения уезда. Ярославский отход был главным образом столичным, Петербургским и Московским. Но встречались и уникальные случаи: в 1826 году два крестьянина Мологского уезда нанялись в Российско-Американскую компанию для мореплавания. Отход – занятие в основном мужское. Так, из 54703 человек по Ярославской губернии, числившихся в отходе на 1843 год, женщин лишь 1494.
Местных причин массового отхода можно выделить несколько: невозможность поддержки местных торговых предприятий и производства, поскольку большинство уездных городов находилось в стороне от центральных торговых путей; отсутствие достаточного для прокормления семьи надела; развитие кустарных промыслов в губернии. Заработки отходников в Москве и Санкт-Петербурге были значительно выше, чем в самой губернии. Так, заработная плата работников, занятых в местных промыслах составляла в 1850–ых годах от 19 до 54 рублей серебром в год в зависимости от квалификации. Отходники же зарабатывали в столицах по 66–72 рубля. Крестьяне уходили на заработки, получая годовые паспорта или более краткосрочные билеты. В середине XIX века ежегодно уходило из губернии более 100 тысяч человек, что составляло до 25% взрослого населения губернии. Для уменьшения числа отходников правительство приняло следующие правила: крестьянин обязывался состоять в сельской общине, ежегодно откупать у помещика уплатой оброка право отхода; была введена система паспортного контроля, лишавшая отходника права свободного передвижения. Но жесткий контроль не принес ожидаемых результатов. Для примера: из 12715 (на 1901 г.) человек в Любимском районе на полевые сезонные работы в деревню вернулось лишь 849 человек.
Процесс экономического расслоения русского пореформенного общества коснулся и отходников, среди которых четко выделяются несколько имущественных групп: новая крестьянская торговая буржуазия (таковым стал, например, владелец большой Петербургской гостиницы и ресторана «Русь» Я.Г.Гордеев – выходец из крестьян деревни Филенское Любимского уезда), это приблизительно 3–5 % из общего числа отходников; новое городское мещанство, занятое в промышленно–фабричном производстве, строительстве и проч. сферах (приблизительно 60–70 %); «наемные рабочие с наделом», те, кто еще не порвал с деревней, продолжал совмещать отходный промысел с обработкой земли (приблизительно 15–20 %).
Наибольший отряд отходников составляли строительные рабочие (каменщики, плотники, мраморщики, лепщики, печники), второй по численности отряд – транспортные рабочие (лоцманы, коноводы, бурлаки, извозчики, плотовщики). Третья сфера приложения сил отходников – торговля, в частности работа в трактирах, трактирное дело в Санкт-Петербурге было монополизировано ярославскими крестьянами. В 1900–ых годах ситуация изменилась. По своему удельному весу отхожие промыслы распределялись таким образом: торговля – до 24% от всех отходников, трактирный промысел – 13,5% (в основном Любимский уезд), строительство – 13% (в основном Даниловский уезд). Так, в 1894–95 годах насчитывалось 20170 ярославских отходников–строителей, ремесло – 13%, прислуга – свыше 12%, огородничество – 8% (в основном Ростовский и Романово–Борисоглебский уезды), работы на фабриках и заводах – 7%, судовой промысел – 3,5%. Отход способствовал повышению грамотности ярославских крестьян, общего культурного уровня. Современники отмечали, что ярославские крестьяне деятельны и предприимчивы.
Богословский В.В., Юрчук К.И.
Тарбаев Б.И._
Партия Республика Род Советы Социализм Труд Университет Экспедиция 28 МЙ 1929
Отхожие промыслы
Отхожие промыслы - заработки крестьян на стороне, "на чужбине", куда нужно "отходить", уходить из с. или деревни. Людей, уходивших на заработки называли "отходниками". Помещик , особенно в зимнее время, мог отпускать крестьян на заработки, видимо, не без выгоды для себя - крестьяне расплачиваться с помещиком денежным оброком. Временный уход крестьян из мест постоянного жительства на заработки в города и на сельскохозяйственные работы, в др.местности - отходничество. Было распространено было среди помещичьих оброчных крестьян. Усилилось после реформы 19 ФВ 1861 .

В к.XVIII-первой пол.XIX вв. слабое освоение природных богатств Коми края, немногочисленные и малопродуктивные промышленные предприятия, вся совокупность местных промыслов не могли полностью поглотить избыток рабочей силы. С др.ст., потребность населения в денежных средствах возрастала. Сказывались рост налогов и платежей, упадок охоты и рыболовства, развитие товарно-денежных отношений и ряд др.обстоятельств. В этих условиях жители Коми края начинают искать дополнительный заработок за пределами своего постоянного местожительства. Отходничество практиковалось в рамках отдельных регионов и за их пределами. Как правило, первый тип был связан с кратковременным отходом, второй - с длительной отлучкой работника от своего хозяйства. Хотя на практике иногда было сложно отделить отход в пределах, напр., Коми края, от отхода в рамках Европейского Севера. Долговременный отход населения Коми края в осн.был связан с уходом на заработки за его пределы. Законный статус отходнику долгое время давал только паспорт .

В первой пол.XIX в. в Коми крае уход населения на заработки за пределы края возрастал. Так, в Остаповской (Объячевской) волости Усть-Сысольского уезда в 1825 было выдано 8 годовых паспортов, в 1828 - 18 и в 1841 - 69. Понятно, что обычно значительно больше выдавалось отпускных билетов. В упомянутой Остаповской волости в 1841 их получили 662 человека. Одним из самых распространённых видов отхода крестьян за пределы края были работы по обслуживанию частных судов, которые проходили с различными грузами в Устюг, Вологду, Архангельск, Чердынь и др.места. Отходники нанимались лоцманами, кормщиками, гребщиками, бечевниками, судорабочими. Население печорских волостей обслуживало суда чердынских купцов , перевозивших хлеб, точильный камень и др.товары. Устьцилемцы в отдельных случаях нанимались на морские промыслы. На речных судах, проходивших с грузами по Печоре, Ижме , Цильме, Пижме, в 1840-1850-х ежегодно находили работу от 200 до 340 человек .

Особенно многие работали на речных судах жителей Усть-Сысольского и Яренского уездов. Основными центрами, где они нанимались, были Устюжская, Усть-Сысольская, Койгородская, Сольвычегодская, Ношульская, Быковская, Никольская, Подосиновская и Вологодская пристани. В 1842-1860 на обслуживании судов, которые прошли по рекам Коми края к Устюгу, Вологде, Архангельску, трудились от 4760 до 16998 судорабочих, в осн.жителей Усть-Сысольского и Яренского уездов. Некоторые жители Коми края находили заработок, занимаясь извозом . В Усть-Цилемской и Ижемской волостях перевозкой грузов в 1847 занималось 160 человек, в 1849 - 119 и в 1855 - 260 человек. Они перевозили на лошадях и оленях хлеб, рыбу, соль и др.товары в обе столицы, Архангельск, на Пинежскую, Никольскую и ряд др.ярмарок. На юге края извозом особенно активно занимались крестьяне Остаповской волости. Здесь в 1838 этим промыслом кормились 540 человек.


С отходничеством за пределы Коми края неразрывно были связаны лесозаготовки. Обычно крестьяне нанимались не только на вырубку, но и на сплав леса-кругляка, досок и бруса. Какая-то часть крестьян вывозила в др.регионы соль, железо, чугун, замшу, кожи, пушнину, дичь, рыбу и др.продукцию, которую добывали или производили на территории края. Отход крестьян на заработки в пределах Коми края был полностью замкнут на обслуживании промышленных предприятий, кустарных мастерских и местных промыслов. В первой пол.XIX в. иногда сложно было даже отделить местное производство от отхожего промысла. Без отходников в пределах края невозможно представить, напр., судостроительный и лесозаготовительный промыслы. Определённые элементы отходничества были присущи для охоты и "брусяного дела". Многие сотни крестьян обслуживали основное производство на железоделательных и Серёговском солеваренном заводах. В целом отходничество в Коми крае носило повсеместный и массовый характер.